Русская актерская школа
Сегодняшний рассказ – важнейший, фундаментальный, базисный. Наконец-то мы вплотную подошли к разговору о формировании русской школы актерского мастерства – о тех специфических характеристиках, которые составляют отличительную черту актеров – наших соотечественников.
Начнем с вопроса – когда?
Процесс формирования школы занимает собой третью четверть XIX века. Разумеется, не строго хронологически – в истории вообще редко что точно совпадает в датах. Считаю важным напомнить читателям некоторые основные тезисы о том, в каком положении находился русский театр в этот момент.
Итак, он был полностью встроен в государственную систему управления – существовала модель Императорских театров и монополия на спектакли, которая просуществовала до 1882 года. Существовал и наполнял театры русский зритель, не пропускавший ни одной премьеры в любимых театрах. Но, как я уже говорил в прошлый раз, по-прежнему не существовало драматургического национального корпуса, который является непременным условием для формирования национальной актерской школы.
Процесс этого формирования выглядит приблизительно следующим образом. Вначале появляется некоторое количество пьес, с одной стороны, достаточно талантливо написанных (потому что графоманские поделки едва ли могут на что-то повлиять), а с другой – достаточно выигрышно-театральных (чтобы могли прийтись по вкусу публике, которая будет их посещать). Но самое главное – ставящие перед актерами приблизительно одинаковые технические задачи, решая которые изо дня в день, актеры приобретают навыки стабильной работы.
Наш герой
Вы, конечно, догадываетесь, к чему я клоню. Третья четверть XIX века проходит под знаменем одного из величайших русский драматургов (а может быть, в смысле объема решенных им задач – и просто величайшего) – Александра Николаевича Островского. Именно его пьесы и стали тем национальным корпусом, который сделал русского актера таким, каким он остается до сегодняшнего дня. Целью нашего сегодняшнего рассказа и будет выделить с помощью пьес «Русского Шекспира» те основные черты, которые присущи нашим лицедеям.
Островский был не просто драматургом – он был человеком театра. Это вовсе не значит, что он толкался за кулисами и уговаривал артистов сыграть в своей новой пьесе. Это значит, что эволюция его пьес происходила не в тиши кабинетного уединения, а в пыли и сутолоки театральных коридоров.
Островский любил театр так пылко и одновременно так мучительно, как может любить человек, только досконально знающий изнанку дела. Он любил тряпичные, плохо разглаженные стены декораций, нетрезвого суфлера, забывчивого режиссера и валяющийся под ногами реквизит. Но самое главное – он безумно, до страсти любил актеров. Он хорошо их знал, со многими дружил, многих ненавидел – но любил при этом всех, любил само сословие этих странных людей, которых в одной из своих пьес назовет «птицами небесными».
Начнем с вопроса – когда?
Процесс формирования школы занимает собой третью четверть XIX века. Разумеется, не строго хронологически – в истории вообще редко что точно совпадает в датах. Считаю важным напомнить читателям некоторые основные тезисы о том, в каком положении находился русский театр в этот момент.
Итак, он был полностью встроен в государственную систему управления – существовала модель Императорских театров и монополия на спектакли, которая просуществовала до 1882 года. Существовал и наполнял театры русский зритель, не пропускавший ни одной премьеры в любимых театрах. Но, как я уже говорил в прошлый раз, по-прежнему не существовало драматургического национального корпуса, который является непременным условием для формирования национальной актерской школы.
Процесс этого формирования выглядит приблизительно следующим образом. Вначале появляется некоторое количество пьес, с одной стороны, достаточно талантливо написанных (потому что графоманские поделки едва ли могут на что-то повлиять), а с другой – достаточно выигрышно-театральных (чтобы могли прийтись по вкусу публике, которая будет их посещать). Но самое главное – ставящие перед актерами приблизительно одинаковые технические задачи, решая которые изо дня в день, актеры приобретают навыки стабильной работы.
Наш герой
Вы, конечно, догадываетесь, к чему я клоню. Третья четверть XIX века проходит под знаменем одного из величайших русский драматургов (а может быть, в смысле объема решенных им задач – и просто величайшего) – Александра Николаевича Островского. Именно его пьесы и стали тем национальным корпусом, который сделал русского актера таким, каким он остается до сегодняшнего дня. Целью нашего сегодняшнего рассказа и будет выделить с помощью пьес «Русского Шекспира» те основные черты, которые присущи нашим лицедеям.
Островский был не просто драматургом – он был человеком театра. Это вовсе не значит, что он толкался за кулисами и уговаривал артистов сыграть в своей новой пьесе. Это значит, что эволюция его пьес происходила не в тиши кабинетного уединения, а в пыли и сутолоки театральных коридоров.
Островский любил театр так пылко и одновременно так мучительно, как может любить человек, только досконально знающий изнанку дела. Он любил тряпичные, плохо разглаженные стены декораций, нетрезвого суфлера, забывчивого режиссера и валяющийся под ногами реквизит. Но самое главное – он безумно, до страсти любил актеров. Он хорошо их знал, со многими дружил, многих ненавидел – но любил при этом всех, любил само сословие этих странных людей, которых в одной из своих пьес назовет «птицами небесными».
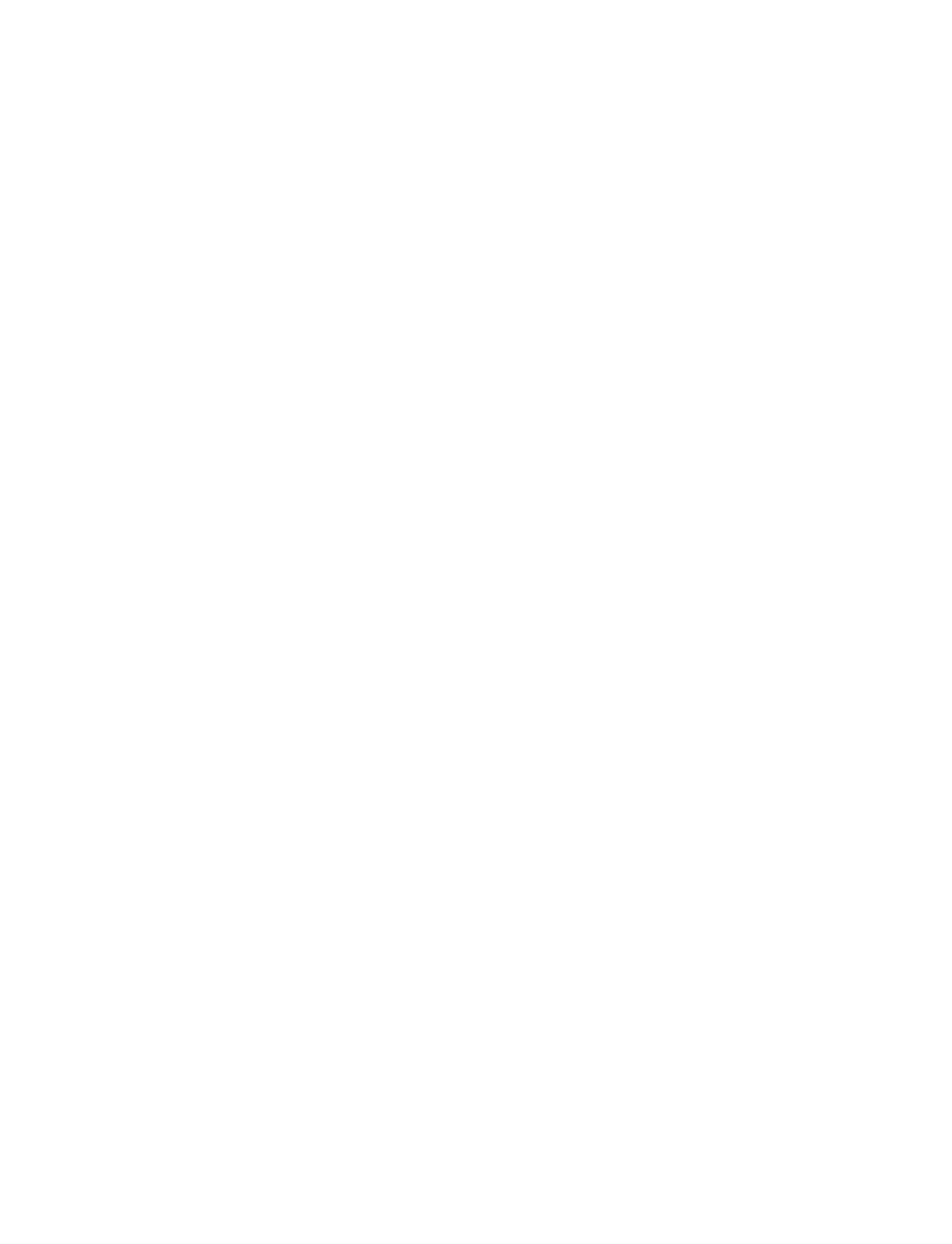
В. Г. Перов, Портрет А. Н. Островского, 1871
Что значит любить актера?
Любовь к актерам проявилась у него главным образом в том, что для актеров он создавал роли. Роли у Островского – всегда хорошие. Приведу пару примеров из числа моих любимых.
В каждой пьесе есть так называемые роли «на выход» (или, как называют их французы – аксессуарные). Это роли, совершенно бессмысленные с точки зрения актера, режиссера и даже сюжета – но необходимые с точки зрения механизмов театральной работы. Например, лакей, который выносит поднос с чашками и чайником. Или слуга, докладывающий о приезде того или иного персонажа. Или горничная, протирающая пыль. Вся их роль при удачном стечении обстоятельств – две-три служебные реплики. На поклоны они никогда не остаются – все равно, если и выйдет, так зритель его даже не вспомнит.
Разумеется, никто из актеров никогда не хотел (да и не хочет) играть такие роли. Но… не в пьесах Островского. В его пьесах даже эти маленькие, почти бессловесные герои – это целая роль, и каждый мало-мальски способный актер, уходя, получит свои заслуженные аплодисменты. Вот вам пример. В пьесе «Последняя жертва» есть сцена в ресторане, в котором один из главных героев заказывает ужин. Так вот, роль официанта – одна из самых блестящих в этой пьесе в целом.
«Лавр Мироныч. Звезды считаешь, любезный? Не трудись, сосчитаны. Как зовут тебя?
Сакердон. Сакердон-с.
Лавр Мироныч. Как, как?
Сакердон. Сакердон-с.
Лавр Мироныч. Ну, ступай с богом!
Сакердон. Помилуйте, за что же? Я могу-с..
Лавр Мироныч. Коли я теперь, трезвый, твое имя не скоро выговорю, как же я с тобой после ужина буду разговаривать?»
Этими тремя репликами исчерпывается вся роль официанта Сакердона, но посмотрите, какой невероятный материал она дает для актера. От человека, который гордится своим редким именем и с гордостью его называет, он за долю секунды превращается в униженного лакея, который просит, чтобы от его услуг не отказывались. Поскольку все превращение занимает около минуты сценического времени, то за счет этой безумной скорости психологического кульбита это вызывает комический эффект невероятной силы. Персонаж моментально запоминается, а актер, уходя со сцены, получает свою заслуженную порцию аплодисментов.
Правда жизни и правда театра
Я бы хотел обратить внимание читателя вот на какой факт. Приведенная выше сцена вовсе не несет никакого социально-драматического смысла, как может показаться. Там вовсе нет интонации богатого барина, унижающего подчиненного. Это комическая реприза, гэг, абсолютно вставной номер, суть которого – повеселить зрителя и дать выигрышный материал актеру. «Перегружать» этот эпизод психологической правдой и достоверностью – значит портить его и обоим исполнителям, и спектаклю в целом.
Островский вообще далеко не всегда близок психологической правде, как его любит преподносить. Никакой правды жизни нет в том, чтобы заставить Глумова в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» читать вслух трактат о вреде реформ вообще его же собственному автору, Крутицкому. Ведь персонажи прекрасно знают его, перечитывали многократно. Но убрать эту сцену, совершенно не нужную смыслу (да и сюжету, в общем-то, тоже), значит лишить зрителя и актеров одной из самых смешных, ярких и благодарных мест в пьесе.
Островский выводит и еще одну формулу – главная фраза в пьесе или акте – последняя. Если она не вызывает аплодисментов, считайте, что вы провалились. «На всякого мудреца довольно простоты» можно было бы закончить решением стариков упросить Глумова вернуться к ним. Но Островский добавляет одну коротенькую реплику Клеопатре Мамаевой, которая всю пьесу пыталась затащить Глумова в постель. «Уж это (то есть возвращение Глумова – В.У.) я возьму на себя!» - восклицает она. И ни для кого не секрет, каким образом она это организует.
Любовь к актерам проявилась у него главным образом в том, что для актеров он создавал роли. Роли у Островского – всегда хорошие. Приведу пару примеров из числа моих любимых.
В каждой пьесе есть так называемые роли «на выход» (или, как называют их французы – аксессуарные). Это роли, совершенно бессмысленные с точки зрения актера, режиссера и даже сюжета – но необходимые с точки зрения механизмов театральной работы. Например, лакей, который выносит поднос с чашками и чайником. Или слуга, докладывающий о приезде того или иного персонажа. Или горничная, протирающая пыль. Вся их роль при удачном стечении обстоятельств – две-три служебные реплики. На поклоны они никогда не остаются – все равно, если и выйдет, так зритель его даже не вспомнит.
Разумеется, никто из актеров никогда не хотел (да и не хочет) играть такие роли. Но… не в пьесах Островского. В его пьесах даже эти маленькие, почти бессловесные герои – это целая роль, и каждый мало-мальски способный актер, уходя, получит свои заслуженные аплодисменты. Вот вам пример. В пьесе «Последняя жертва» есть сцена в ресторане, в котором один из главных героев заказывает ужин. Так вот, роль официанта – одна из самых блестящих в этой пьесе в целом.
«Лавр Мироныч. Звезды считаешь, любезный? Не трудись, сосчитаны. Как зовут тебя?
Сакердон. Сакердон-с.
Лавр Мироныч. Как, как?
Сакердон. Сакердон-с.
Лавр Мироныч. Ну, ступай с богом!
Сакердон. Помилуйте, за что же? Я могу-с..
Лавр Мироныч. Коли я теперь, трезвый, твое имя не скоро выговорю, как же я с тобой после ужина буду разговаривать?»
Этими тремя репликами исчерпывается вся роль официанта Сакердона, но посмотрите, какой невероятный материал она дает для актера. От человека, который гордится своим редким именем и с гордостью его называет, он за долю секунды превращается в униженного лакея, который просит, чтобы от его услуг не отказывались. Поскольку все превращение занимает около минуты сценического времени, то за счет этой безумной скорости психологического кульбита это вызывает комический эффект невероятной силы. Персонаж моментально запоминается, а актер, уходя со сцены, получает свою заслуженную порцию аплодисментов.
Правда жизни и правда театра
Я бы хотел обратить внимание читателя вот на какой факт. Приведенная выше сцена вовсе не несет никакого социально-драматического смысла, как может показаться. Там вовсе нет интонации богатого барина, унижающего подчиненного. Это комическая реприза, гэг, абсолютно вставной номер, суть которого – повеселить зрителя и дать выигрышный материал актеру. «Перегружать» этот эпизод психологической правдой и достоверностью – значит портить его и обоим исполнителям, и спектаклю в целом.
Островский вообще далеко не всегда близок психологической правде, как его любит преподносить. Никакой правды жизни нет в том, чтобы заставить Глумова в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» читать вслух трактат о вреде реформ вообще его же собственному автору, Крутицкому. Ведь персонажи прекрасно знают его, перечитывали многократно. Но убрать эту сцену, совершенно не нужную смыслу (да и сюжету, в общем-то, тоже), значит лишить зрителя и актеров одной из самых смешных, ярких и благодарных мест в пьесе.
Островский выводит и еще одну формулу – главная фраза в пьесе или акте – последняя. Если она не вызывает аплодисментов, считайте, что вы провалились. «На всякого мудреца довольно простоты» можно было бы закончить решением стариков упросить Глумова вернуться к ним. Но Островский добавляет одну коротенькую реплику Клеопатре Мамаевой, которая всю пьесу пыталась затащить Глумова в постель. «Уж это (то есть возвращение Глумова – В.У.) я возьму на себя!» - восклицает она. И ни для кого не секрет, каким образом она это организует.
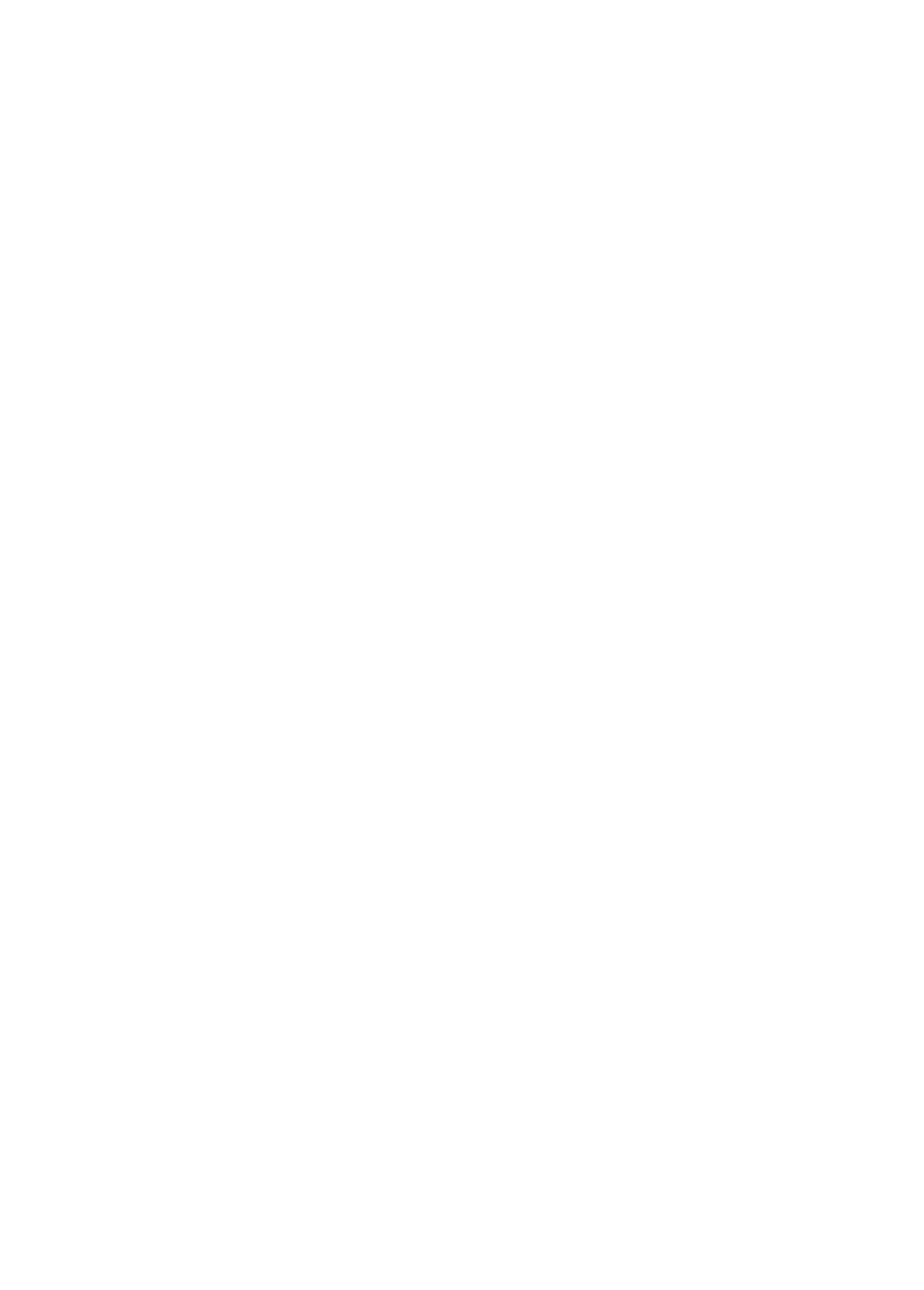
Константин Станиславский (слева) в роли генерала Крутицкого и Василий Качалов (справа) в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» в МХТ, 1910 год.
Самая сложная роль
Выигрышное положение артиста – это главная забота Островского. Все тот же Егор Дмитриевич Глумов – на мой взгляд, лучшая – и самая трудная роль мирового репертуара. Суть ее состоит в том, что актеру необходимо всю пьесу врать другим персонажам, притворяться перед ними то либералом, то консерватором, то влюбленным, то аскетом. Очень важно, чтобы зритель считывал это притворство и ложь, но также важно, чтобы об этом не догадывались персонажи пьесы. Из нескольких десятков виденных мною Глумовых практически никто не смог добиться этого эффекта – Глумовы либо лихо комиковали, откровенно играя вранье, либо были чересчур серьезны и убедительны, напрочь убивая радость игры и лицедейства.
Как хороший портной
Удобство актера – еще одна важнейшее дело Островского. Удобство и в крупных вопросах, и в мелочах. Его пьесы тщательнейшим, математическим образом рассчитаны. В них есть моменты отдыха для актера и моменты «убойных» монологов. Жадов в «Доходном месте» после труднейшей сцены с Полиной не появляется на сцене до самого финала – между двумя большими, энергозатратными эпизодами ему нужен отдых. Но есть и маленькие мелочи-подарки.
Например, в «Бешеных деньгах» Телятев с восхищением перечисляет города, в которых побывал главный герой пьесы Васильков. «Он бывал в Лондоне, - с воодушевлением начинает актер, - в Константинополе…». Интонация, и без того приподнятая смыслом фразы, продолжает расти вверх, и на втором слове достигает предела. Чтобы произнести третий город, артисту надо перейти на крик, что сценически всегда выглядит грубо и неэффектно. И Островский спасает исполнителя – третьим городом великого путешественника оказываются… Тетюши, что позволяет исполнителю резко опустить интонацию вниз, перейти на благоговейный шепот, так не подходящий этому маленькому провинциальному городку, создать комический эффект и – сорвать аплодисменты.
Таким образом, уважаемый читатель, вы уже понимаете, какой вывод я хочу сделать из этого большого количества примеров. Александр Николаевич Островский приучает актера чувствовать себя царем сцены, повелителем пьесы и зрительного зала. Воспитанный на пьесах Островского актер всегда находится в центре созданного театрального мира. Русский актер всегда более значим, чем автор и режиссер, не говоря уже о таких второстепенных людях, как художник и композитор. Русская актерская школа базируется на главном тезисе: актер – центр театральной вселенной. А все остальные не так важны.
Выигрышное положение артиста – это главная забота Островского. Все тот же Егор Дмитриевич Глумов – на мой взгляд, лучшая – и самая трудная роль мирового репертуара. Суть ее состоит в том, что актеру необходимо всю пьесу врать другим персонажам, притворяться перед ними то либералом, то консерватором, то влюбленным, то аскетом. Очень важно, чтобы зритель считывал это притворство и ложь, но также важно, чтобы об этом не догадывались персонажи пьесы. Из нескольких десятков виденных мною Глумовых практически никто не смог добиться этого эффекта – Глумовы либо лихо комиковали, откровенно играя вранье, либо были чересчур серьезны и убедительны, напрочь убивая радость игры и лицедейства.
Как хороший портной
Удобство актера – еще одна важнейшее дело Островского. Удобство и в крупных вопросах, и в мелочах. Его пьесы тщательнейшим, математическим образом рассчитаны. В них есть моменты отдыха для актера и моменты «убойных» монологов. Жадов в «Доходном месте» после труднейшей сцены с Полиной не появляется на сцене до самого финала – между двумя большими, энергозатратными эпизодами ему нужен отдых. Но есть и маленькие мелочи-подарки.
Например, в «Бешеных деньгах» Телятев с восхищением перечисляет города, в которых побывал главный герой пьесы Васильков. «Он бывал в Лондоне, - с воодушевлением начинает актер, - в Константинополе…». Интонация, и без того приподнятая смыслом фразы, продолжает расти вверх, и на втором слове достигает предела. Чтобы произнести третий город, артисту надо перейти на крик, что сценически всегда выглядит грубо и неэффектно. И Островский спасает исполнителя – третьим городом великого путешественника оказываются… Тетюши, что позволяет исполнителю резко опустить интонацию вниз, перейти на благоговейный шепот, так не подходящий этому маленькому провинциальному городку, создать комический эффект и – сорвать аплодисменты.
Таким образом, уважаемый читатель, вы уже понимаете, какой вывод я хочу сделать из этого большого количества примеров. Александр Николаевич Островский приучает актера чувствовать себя царем сцены, повелителем пьесы и зрительного зала. Воспитанный на пьесах Островского актер всегда находится в центре созданного театрального мира. Русский актер всегда более значим, чем автор и режиссер, не говоря уже о таких второстепенных людях, как художник и композитор. Русская актерская школа базируется на главном тезисе: актер – центр театральной вселенной. А все остальные не так важны.
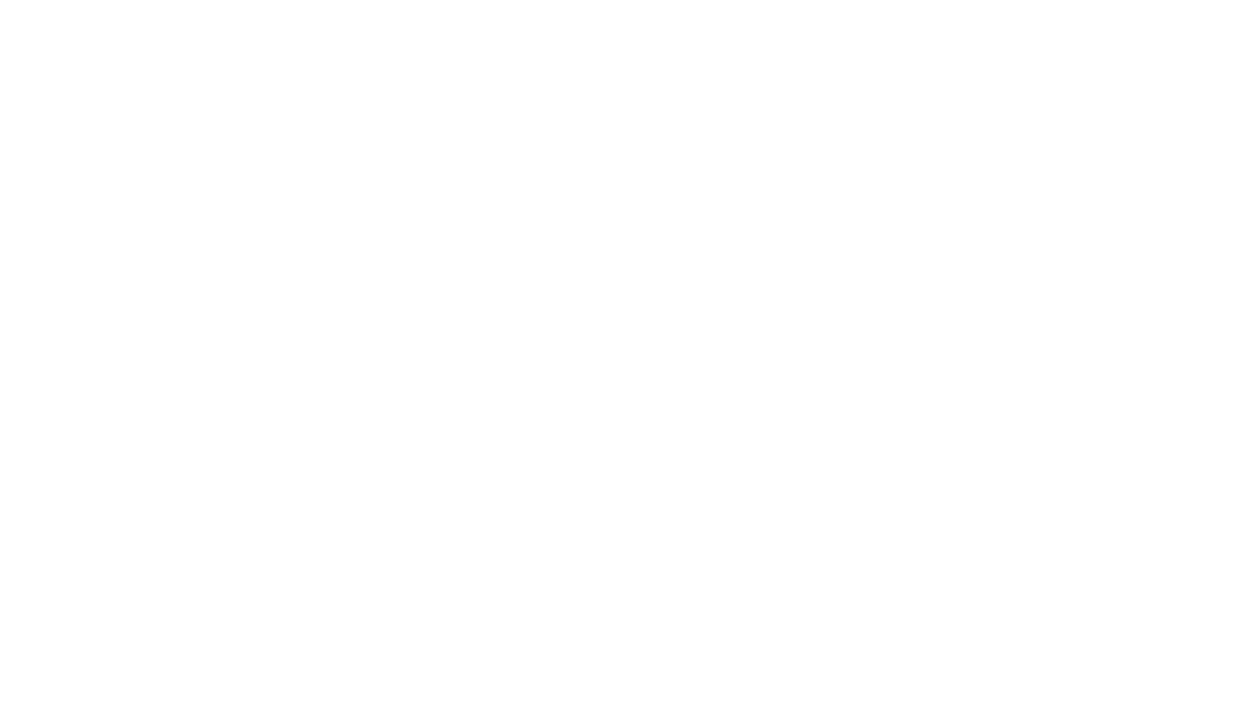
Александр Островский, ок. 1859 года
И вновь о школе
Работа в пьесах Островского формирует несколько важнейших принципов русского артиста.
Во-первых, его умение замыкать на себе пространство и внимание зрительного зала. Русский актер должен уметь работать со зрительским вниманием, не полагаясь в этом смысле на режиссерские мизансцены.
Во-вторых, артист русской школы далеко не всегда верен «психологической правде» (хотя и часто постулирует это). В его игре всегда должен быть налет легкой театральности, умение оторваться от быта, от низменной составляющей – ради эффекта, ради красоты сцены. Ради рвущейся эмоции. Обратите внимание, что во всей военных фильмах и спектаклях в кульминационной сцене (которая, как правило происходит в мороз и на снегу) герой-офицер появляется… в расстегнутой шинели. Дело в том, что именно расстегнутая и длинная (до пят) верхняя одежда наиболее выигрышная для подобных сцен. С одной стороны, она подчеркивает и визуально увеличивает рост актера, а с другой – не сковывает жесты, не мешает рукам. Бог уж с ней, с бытовой правдой, если зритель в зале замирает от восторга – «как играет!»
Это самое «как играет» русский актер непременно должен подчеркивать и даже слегка утрировать. Проникновение в образ и «жизнь человеческого духа» беспощадно отметаются, если мешают «красоте игры».
И третье – как раз игра. Русский актер приучен драматургией Островского играть событийный ряд здесь и сейчас. Подтексты и внутренние миры, как ни странно, скорее из сильных сторон артистов-американцев, чем наших соотечественников. Русский артист всегда знает, как застрелиться на сцене или как услышать новость о том, что он выиграл в лотерею. А вот как уйти, чтобы застрелиться за кулисами – это из репертуара актеров других стран.
Все вышеперечисленное является неотъемлемыми чертами отечественной актерской школы. Это не есть ни ее плохие, ни хорошие качества. Это та данность, с которой мы вот уже почти два века сосуществуем. Наша школа, давшая великих актеров, начиная с того самого момента, как Александр Островский начал писать для них свои пьесы. О первых из них – в следующий раз.
Работа в пьесах Островского формирует несколько важнейших принципов русского артиста.
Во-первых, его умение замыкать на себе пространство и внимание зрительного зала. Русский актер должен уметь работать со зрительским вниманием, не полагаясь в этом смысле на режиссерские мизансцены.
Во-вторых, артист русской школы далеко не всегда верен «психологической правде» (хотя и часто постулирует это). В его игре всегда должен быть налет легкой театральности, умение оторваться от быта, от низменной составляющей – ради эффекта, ради красоты сцены. Ради рвущейся эмоции. Обратите внимание, что во всей военных фильмах и спектаклях в кульминационной сцене (которая, как правило происходит в мороз и на снегу) герой-офицер появляется… в расстегнутой шинели. Дело в том, что именно расстегнутая и длинная (до пят) верхняя одежда наиболее выигрышная для подобных сцен. С одной стороны, она подчеркивает и визуально увеличивает рост актера, а с другой – не сковывает жесты, не мешает рукам. Бог уж с ней, с бытовой правдой, если зритель в зале замирает от восторга – «как играет!»
Это самое «как играет» русский актер непременно должен подчеркивать и даже слегка утрировать. Проникновение в образ и «жизнь человеческого духа» беспощадно отметаются, если мешают «красоте игры».
И третье – как раз игра. Русский актер приучен драматургией Островского играть событийный ряд здесь и сейчас. Подтексты и внутренние миры, как ни странно, скорее из сильных сторон артистов-американцев, чем наших соотечественников. Русский артист всегда знает, как застрелиться на сцене или как услышать новость о том, что он выиграл в лотерею. А вот как уйти, чтобы застрелиться за кулисами – это из репертуара актеров других стран.
Все вышеперечисленное является неотъемлемыми чертами отечественной актерской школы. Это не есть ни ее плохие, ни хорошие качества. Это та данность, с которой мы вот уже почти два века сосуществуем. Наша школа, давшая великих актеров, начиная с того самого момента, как Александр Островский начал писать для них свои пьесы. О первых из них – в следующий раз.
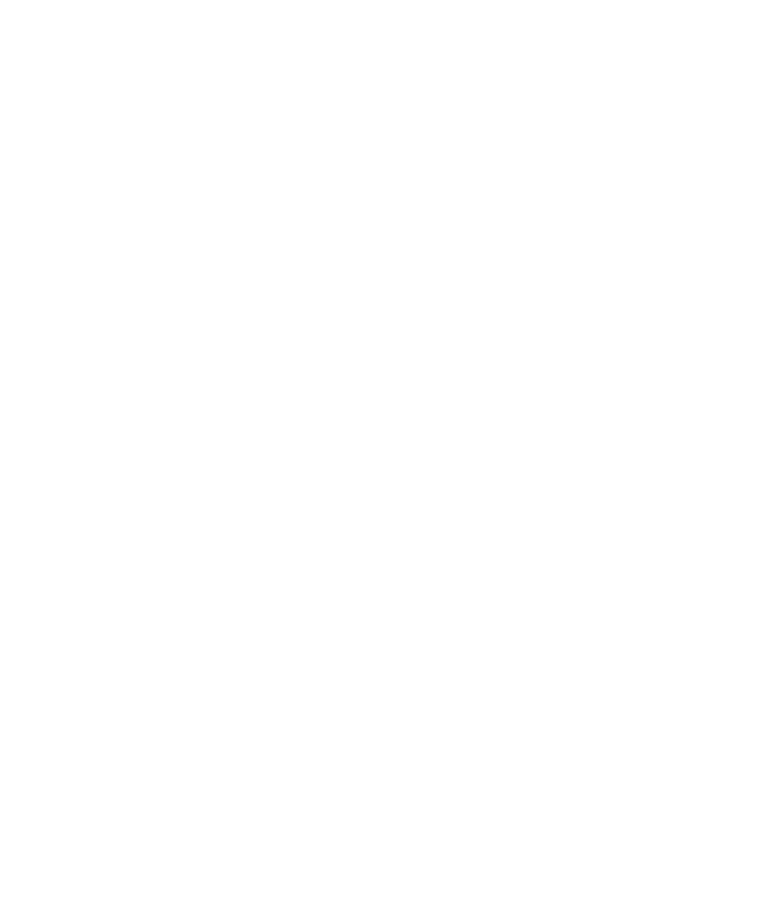
Ираида Уманец-Райская в роли Липочки. Спектакль «Свои люди — сочтемся», Малый театр, 1892 год.



