Большая теория об актерах
Сегодня мы вплотную подошли к самой сложной (но и самой важной) теме в разговоре о русском театре XIX века. Нам предстоит поговорить об актере – о конкретных людях, об их творческих методах, ролях и способах из исполнения. Разговор этот чрезвычайно важен, но и чрезвычайно сложен, потому что именно здесь мы вступаем на скользкий путь догадок и предположений.
О терминологии
Начать я хотел бы с нескольких теоретических вопросов, связанных с некоторыми терминами, которые читатель, безусловно, слышал и знает, но которые все равно требуют дополнительного пояснения в силу своей расплывчатости.
Ну, во-первых, русская школа актерского мастерства. Это словосочетание, как правило, произносится с придыханием и легким оттенком благоговейности в голосе. Четкого определения этому понятию никто не дает и поэтому для удобства отождествляют его с с русским психологическим театром. Практика этого отождествления, на мой взгляд, весьма порочна, ибо второй термин является отражением эстетической концепции – то есть того, как спектакль будет выглядеть в конечном итоге во всех своих составляющих. Но когда мы говорим о школе – то нам следует понимать под этим техническую концепцию. То есть, проще говоря, все актеры, принадлежащие к русской школе актерского мастерства, без вмешательства режиссера, одни и те же роли будут играть приблизительно одинаково.
Когда же она появилась, эта школа? С какого момента мы можем говорить о том, что существует единая технологическая общность актерских методов? Ответ прост: для того, чтобы это случилось, необходимо наличие национальной драматургии – стилистически и технологически единого корпуса пьес, постоянное исполнение ролей в которых будет вырабатывать единую систему актерских методов, техник и приспособлений. При этом чрезвычайно важно еще, чтобы пьесы эти были в достаточной степени талантливы – ведь если они будут быстро покидать репертуар, они не смогут сформировать хотя бы одно единое поколение.
Хронологический срез
Если мы принимаем вышесказанную мысль за аксиому, то мы должны сознаться, что к середине XIX века (то есть в изучаемый нами период) такая школа еще не существует. В определенном смысле наблюдается очень серьезный разрыв между великой русской литературой и национальным драматургическим корпусом. Скажем, к 1850 году (хронологической середине века) русская литература уже имеет таких авторов, как Радищев, Пушкин, Лермонтов. Уже написаны «Мертвые души», «Записки охотника», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Вешние воды» и даже «Бедные люди» и «Белые ночи». В этом смысле драма страшно отстает. По факту мы имеем в тех же хронологических рамках из серьезнейших пьес только два названия – «Горе от ума» и «Ревизор». Сюда же можно добавить гоголевскую же «Женитьбу» и некоторые пьесы Тургенева, лучшие из которых (включая «Месяц в деревне») еще не написаны. Также в нашем арсенале «Борис Годунов» Пушкина и «Маскарад» Лермонтова, которые, хоть и написаны задолго до 1850 года, но так ни разу и не поставлены, а следовательно, никакого влияния на формирование актерской школы не оказали. Пьесы же предшествовавшего, XVIII века (например, «Недоросль» или трагедии Сумарокова), в исследуемое время уже воспринимались как устаревшие.
Но что самое плохое – даже уже написанные пьесы отличались абсолютным разностильем и совершенно различными требованиями к актеру. Чисто теоретически один и тот же исполнитель мог играть и Чацкого («Горе от ума»), и Хлестакова («Ревизор»), и Подколесина («Женитьба»). Но все эти роли, даже предположив полное совпадение внешних данных (возраст, рост, фактуру), требуют совершенно различных подходов. Актер, сыграв их все подряд, получал колоссальный опыт – но опыт совершенно разный.
О терминологии
Начать я хотел бы с нескольких теоретических вопросов, связанных с некоторыми терминами, которые читатель, безусловно, слышал и знает, но которые все равно требуют дополнительного пояснения в силу своей расплывчатости.
Ну, во-первых, русская школа актерского мастерства. Это словосочетание, как правило, произносится с придыханием и легким оттенком благоговейности в голосе. Четкого определения этому понятию никто не дает и поэтому для удобства отождествляют его с с русским психологическим театром. Практика этого отождествления, на мой взгляд, весьма порочна, ибо второй термин является отражением эстетической концепции – то есть того, как спектакль будет выглядеть в конечном итоге во всех своих составляющих. Но когда мы говорим о школе – то нам следует понимать под этим техническую концепцию. То есть, проще говоря, все актеры, принадлежащие к русской школе актерского мастерства, без вмешательства режиссера, одни и те же роли будут играть приблизительно одинаково.
Когда же она появилась, эта школа? С какого момента мы можем говорить о том, что существует единая технологическая общность актерских методов? Ответ прост: для того, чтобы это случилось, необходимо наличие национальной драматургии – стилистически и технологически единого корпуса пьес, постоянное исполнение ролей в которых будет вырабатывать единую систему актерских методов, техник и приспособлений. При этом чрезвычайно важно еще, чтобы пьесы эти были в достаточной степени талантливы – ведь если они будут быстро покидать репертуар, они не смогут сформировать хотя бы одно единое поколение.
Хронологический срез
Если мы принимаем вышесказанную мысль за аксиому, то мы должны сознаться, что к середине XIX века (то есть в изучаемый нами период) такая школа еще не существует. В определенном смысле наблюдается очень серьезный разрыв между великой русской литературой и национальным драматургическим корпусом. Скажем, к 1850 году (хронологической середине века) русская литература уже имеет таких авторов, как Радищев, Пушкин, Лермонтов. Уже написаны «Мертвые души», «Записки охотника», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Вешние воды» и даже «Бедные люди» и «Белые ночи». В этом смысле драма страшно отстает. По факту мы имеем в тех же хронологических рамках из серьезнейших пьес только два названия – «Горе от ума» и «Ревизор». Сюда же можно добавить гоголевскую же «Женитьбу» и некоторые пьесы Тургенева, лучшие из которых (включая «Месяц в деревне») еще не написаны. Также в нашем арсенале «Борис Годунов» Пушкина и «Маскарад» Лермонтова, которые, хоть и написаны задолго до 1850 года, но так ни разу и не поставлены, а следовательно, никакого влияния на формирование актерской школы не оказали. Пьесы же предшествовавшего, XVIII века (например, «Недоросль» или трагедии Сумарокова), в исследуемое время уже воспринимались как устаревшие.
Но что самое плохое – даже уже написанные пьесы отличались абсолютным разностильем и совершенно различными требованиями к актеру. Чисто теоретически один и тот же исполнитель мог играть и Чацкого («Горе от ума»), и Хлестакова («Ревизор»), и Подколесина («Женитьба»). Но все эти роли, даже предположив полное совпадение внешних данных (возраст, рост, фактуру), требуют совершенно различных подходов. Актер, сыграв их все подряд, получал колоссальный опыт – но опыт совершенно разный.
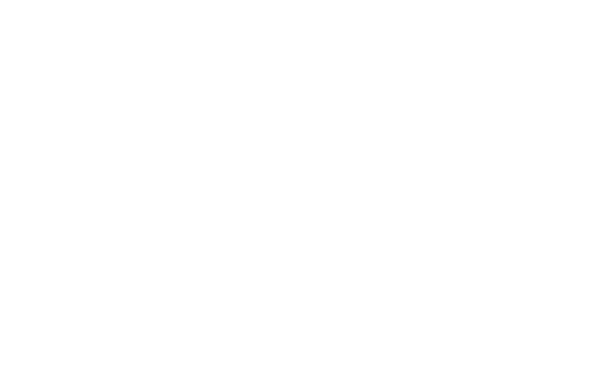
Исполнение «Ревизора» в МХТ, 1908 год
О некоторых примерах
Здесь важно сделать вот какое пояснение. Из всего вышесказанного вовсе не следует, что до 1850 года в России вовсе не было значимых, серьезных, а то и просто великих актеров. Или же (что совсем странно) эти актеры были актерами какой-то другой – не русской – школы. Я хочу сказать всего лишь, что актерское дарование их сложилось стихийно, в значительной степени бессистемно. У них, с одной стороны, не было традиций, на которые они могли бы опереться, с другой – они сами, будучи величинами совершенно титаническими, этих традиций не оставили.
Пример первый – Павел Мочалов
Таким титаном был, например, Павел Мочалов. Сын известного и очень талантливого актера Малого театра Степана Мочалова, он стал одной из главных фигур русского театра второй четверти XIX века. Дебютировав в 17 лет на сцене еще Знаменского театра, Мочалов стал провозвестником на русской сцене искусства романтизма. Философия этого направления заключалась в выведении в центр художественной вселенной титанической личности, которая трансцендентальным образом не подчиняется человеческим законам и обычной житейской логике.
Впрочем, надо сказать, что сам Мочалов едва ли об этом задумывался. Судя по всему, он был настоящим гением – но гением, не имевшим ни техники, ни даже понимания ее необходимости. Искусство Мочалова базировалось на вдохновении – и только на нем. Одну и ту же сцену он мог сегодня сыграть блестяще, заставив публику замереть от восторга, а на следующий же день провалить ее. Искусство Мочалова не знало фиксации не только внешней (через критику или науку), но даже внутренней – то есть сам артист не стремился фиксировать найденные мизансцены и рисунок образа.
Минусы такого подхода к делу очевидны – зритель платит за билеты каждый вечер и надеется увидеть гарантированное талантливое исполнение именно в тот день, когда приходит в театр. Таких гарантий Мочалов дать ему не мог. Но вот в чем его нельзя обвинить, так это в профанации собственного искусства. Если роль в какой-то день, как говориться, «не шла» (то есть вдохновение не приходило), Мочалов и не пытался сыграть ее, так сказать, естественным образом. Он просто бормотал текст, не стараясь даже проговаривать его достаточно громко и четко. Но в те дни, когда вдохновение его посещало, его перевоплощение становилось стопроцентным. Его творчеству современники-москвичи (которые могли часто видеть его на сцене и сравнивать один спектакль с другим) посвятили сотни, если не тысячи страниц статей и мемуаров. Современники-петербужцы не могли понять причин восторгов москвичей – если первое впечатление о Мочалове оказывалось негативным, его едва ли что-то могло исправить.
Здесь важно сделать вот какое пояснение. Из всего вышесказанного вовсе не следует, что до 1850 года в России вовсе не было значимых, серьезных, а то и просто великих актеров. Или же (что совсем странно) эти актеры были актерами какой-то другой – не русской – школы. Я хочу сказать всего лишь, что актерское дарование их сложилось стихийно, в значительной степени бессистемно. У них, с одной стороны, не было традиций, на которые они могли бы опереться, с другой – они сами, будучи величинами совершенно титаническими, этих традиций не оставили.
Пример первый – Павел Мочалов
Таким титаном был, например, Павел Мочалов. Сын известного и очень талантливого актера Малого театра Степана Мочалова, он стал одной из главных фигур русского театра второй четверти XIX века. Дебютировав в 17 лет на сцене еще Знаменского театра, Мочалов стал провозвестником на русской сцене искусства романтизма. Философия этого направления заключалась в выведении в центр художественной вселенной титанической личности, которая трансцендентальным образом не подчиняется человеческим законам и обычной житейской логике.
Впрочем, надо сказать, что сам Мочалов едва ли об этом задумывался. Судя по всему, он был настоящим гением – но гением, не имевшим ни техники, ни даже понимания ее необходимости. Искусство Мочалова базировалось на вдохновении – и только на нем. Одну и ту же сцену он мог сегодня сыграть блестяще, заставив публику замереть от восторга, а на следующий же день провалить ее. Искусство Мочалова не знало фиксации не только внешней (через критику или науку), но даже внутренней – то есть сам артист не стремился фиксировать найденные мизансцены и рисунок образа.
Минусы такого подхода к делу очевидны – зритель платит за билеты каждый вечер и надеется увидеть гарантированное талантливое исполнение именно в тот день, когда приходит в театр. Таких гарантий Мочалов дать ему не мог. Но вот в чем его нельзя обвинить, так это в профанации собственного искусства. Если роль в какой-то день, как говориться, «не шла» (то есть вдохновение не приходило), Мочалов и не пытался сыграть ее, так сказать, естественным образом. Он просто бормотал текст, не стараясь даже проговаривать его достаточно громко и четко. Но в те дни, когда вдохновение его посещало, его перевоплощение становилось стопроцентным. Его творчеству современники-москвичи (которые могли часто видеть его на сцене и сравнивать один спектакль с другим) посвятили сотни, если не тысячи страниц статей и мемуаров. Современники-петербужцы не могли понять причин восторгов москвичей – если первое впечатление о Мочалове оказывалось негативным, его едва ли что-то могло исправить.
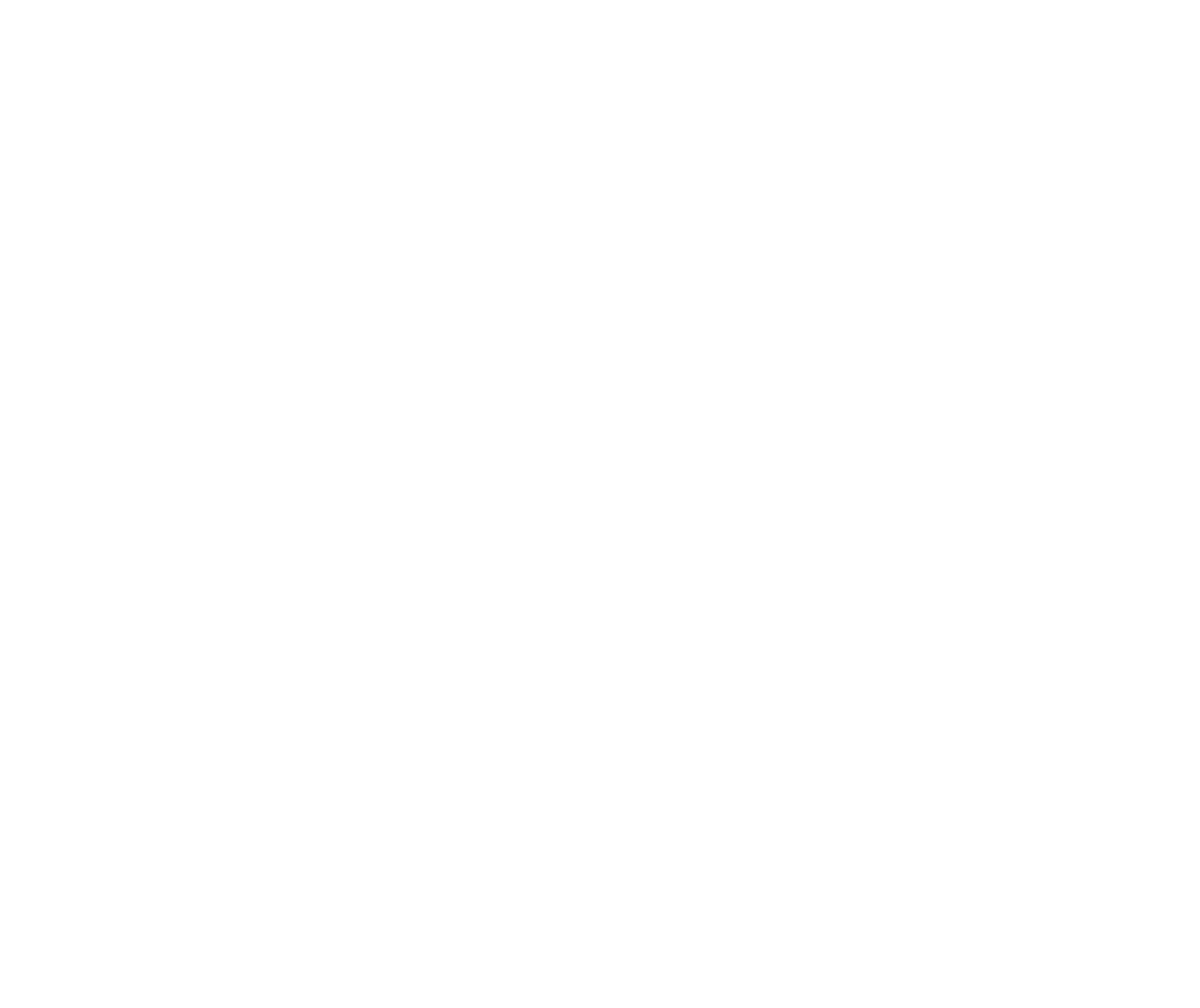
Николай Неверев, «Мочалов в кругу почитателей», 1888
Пример второй – Василий Каратыгин
Тем более что у петербуржцев был свой главный актер – Василий Каратыгин. Его манера исполнения была совершенно иной. В своем доме главный актер Александринского театра устроил зал с полностью зеркальными стенами, в котором без устали репетировал, оттачивая каждый жест, каждый поворот головы, каждую интонацию.
Тут, однако, важно понимать, что Каратыгин вовсе не исходил из логики образа. Целью его было произведение эффекта на зрителя. Поэтому та железная фиксация, которой он добивался от себя и своего тела, была направлена не на то, чтобы как можно полнее раскрыть образ, который он играет, а на то, чтобы тот или иной эпизод спектакля вызывал у публики те или иные эмоции. Каратыгин как раз гарантировал ежевечерне – в этом месте вы будете плакать, здесь смеяться, а здесь – внимательно и напряженно слушать. Его целью вовсе не было единство персонажа и способа его изображения. Если для достижения точной зрительской реакции было необходимо жертвовать логикой происходящего – что ж, тем хуже для логики.
Таким образом, что искусство Мочалова, что искусство Каратыгина едва ли можно назвать искусством естественности и жизни на сцене. Но именно они дали начало двум терминам, которые часто встречаются в разговорах о театре.
Тем более что у петербуржцев был свой главный актер – Василий Каратыгин. Его манера исполнения была совершенно иной. В своем доме главный актер Александринского театра устроил зал с полностью зеркальными стенами, в котором без устали репетировал, оттачивая каждый жест, каждый поворот головы, каждую интонацию.
Тут, однако, важно понимать, что Каратыгин вовсе не исходил из логики образа. Целью его было произведение эффекта на зрителя. Поэтому та железная фиксация, которой он добивался от себя и своего тела, была направлена не на то, чтобы как можно полнее раскрыть образ, который он играет, а на то, чтобы тот или иной эпизод спектакля вызывал у публики те или иные эмоции. Каратыгин как раз гарантировал ежевечерне – в этом месте вы будете плакать, здесь смеяться, а здесь – внимательно и напряженно слушать. Его целью вовсе не было единство персонажа и способа его изображения. Если для достижения точной зрительской реакции было необходимо жертвовать логикой происходящего – что ж, тем хуже для логики.
Таким образом, что искусство Мочалова, что искусство Каратыгина едва ли можно назвать искусством естественности и жизни на сцене. Но именно они дали начало двум терминам, которые часто встречаются в разговорах о театре.

Василий Каратыгин
И еще немного теории
От них, право слово, следовало бы отказаться – уж больно они архаичны. Но поскольку они нет-нет да и всплывут где-нибудь даже в разговорах солидных театральных деятелей, я считаю нужным познакомить с ними читателя. Речь идет об «искусстве представления» и «искусстве переживания». Первым из них намертво закреплен за Каратыгиным, а второй – за Мочаловым. Логика тех, кто употребляет эти термины, примерно следующая. Школа представления говорит нам о том, что артист, выходя на сцену, на самом деле ничего не переживает по-настоящему. Он лишь делает вид, «обозначает» свои эмоции. Его собственные, человеческие чувства остаются при этом совершенно не задействованы. Между тем, если его искусство по-настоящему талантливо, зритель не замечает этой подмены – и вместе с персонажем плачет, радуется и сопереживает.
Искусство же переживания заключается в том, что актер подключает к воображаемому образу именно свои собственные, человеческие чувства и эмоции. Именно поэтому таких исполнителей иногда называют «актерами нутра», «нутряными». Соответственно, такая теория объясняет и «неровность», нестабильность работы Мочалова – в какой-то момент эти чувства и эмоции было возможно подключить, а в какой-то – нет.
Между тем я должен сказать вам, что вообще вся эта теория, судя по всему, ошибочна. Случай «искусства представления» предполагает абсолютное отключение себя от роли, что представляется довольно малореальным. Ведь очень сложно допустить, что актер, играющий большую, серьезную роль, ни одной секунды, ни в одном спектакле не увлечется ею, что его эмоциональная составляющая никогда не отзовется на происходящее на сцене, что его человеческая сущность и сущность роли полностью разделены. Также малореально и чистое «искусство переживания» - когда актер полностью перестает контролировать себя на сцене, когда перевоплощение является абсолютным. Ведь тогда артист не в состоянии верно говорить текст и выполнять мизансцены – логика его собственных чувств полностью должна подчинить себе внешний рисунок роли.
Тезис – антитезис - синтез
Как правило, актер работает все-таки где-то посередине, иногда приближаясь то к одному, то к другому полюсу. Работа актера построена в первую очередь на изучении роли, внимательном исследовании авторского текста, создании своего «толкования», интерпретации этого текста. Именно это актер ставит во главу угла, а вовсе не желание поразить публику рассчитанным эффектом или кровавое эксплуатирование собственных эмоций. Именно таким умным толкователем роли стал третий из величайших актеров этого периода – Михаил Семенович Щепкин.
Бывший крепостной, не получивший никакого системного образования, к концу жизни он стал непререкаемым авторитетом в мире русского искусства (не только театрального), близким другом Аксакова и Гоголя, главным исполнителем ролей Фамусова и Городничего. Искусство Щепкина современники (в данном случае Аполлон Григорьев) называли искусством «толкующего комизма». Щепкин как бы «изымал» из персонажа то, что ему казалось важным, и преподносил это зрителю – «растолковывал», объяснял персонажа. Пожалуй, в этом сочеталось и искусство представления (актер все-таки не равен персонажу), и искусство переживания (чудо перевоплощения все-таки происходило)
Но все же лучше, наверное, отказаться от этих терминов. Боюсь, что они навеяны всего лишь легендами о противостоянии двух великих актеров – Мочалова и Каратыгина. Даже истории их смертей как будто продолжают это великое противостояние. Каратыгин умер, будучи абсолютным лидером труппы, обласканным императором, окруженной семьей и детьми, в собственном доме. Мочалов же, возвращаясь с гастролей, пил водку, а когда кончилась закуска, стал заедать ее снегом – вернувшись домой, простудился и умер. Эти же легенды и будут основой для разделения ремесла и высокого искусства – в актерском деле едва ли когда справедливого.
От них, право слово, следовало бы отказаться – уж больно они архаичны. Но поскольку они нет-нет да и всплывут где-нибудь даже в разговорах солидных театральных деятелей, я считаю нужным познакомить с ними читателя. Речь идет об «искусстве представления» и «искусстве переживания». Первым из них намертво закреплен за Каратыгиным, а второй – за Мочаловым. Логика тех, кто употребляет эти термины, примерно следующая. Школа представления говорит нам о том, что артист, выходя на сцену, на самом деле ничего не переживает по-настоящему. Он лишь делает вид, «обозначает» свои эмоции. Его собственные, человеческие чувства остаются при этом совершенно не задействованы. Между тем, если его искусство по-настоящему талантливо, зритель не замечает этой подмены – и вместе с персонажем плачет, радуется и сопереживает.
Искусство же переживания заключается в том, что актер подключает к воображаемому образу именно свои собственные, человеческие чувства и эмоции. Именно поэтому таких исполнителей иногда называют «актерами нутра», «нутряными». Соответственно, такая теория объясняет и «неровность», нестабильность работы Мочалова – в какой-то момент эти чувства и эмоции было возможно подключить, а в какой-то – нет.
Между тем я должен сказать вам, что вообще вся эта теория, судя по всему, ошибочна. Случай «искусства представления» предполагает абсолютное отключение себя от роли, что представляется довольно малореальным. Ведь очень сложно допустить, что актер, играющий большую, серьезную роль, ни одной секунды, ни в одном спектакле не увлечется ею, что его эмоциональная составляющая никогда не отзовется на происходящее на сцене, что его человеческая сущность и сущность роли полностью разделены. Также малореально и чистое «искусство переживания» - когда актер полностью перестает контролировать себя на сцене, когда перевоплощение является абсолютным. Ведь тогда артист не в состоянии верно говорить текст и выполнять мизансцены – логика его собственных чувств полностью должна подчинить себе внешний рисунок роли.
Тезис – антитезис - синтез
Как правило, актер работает все-таки где-то посередине, иногда приближаясь то к одному, то к другому полюсу. Работа актера построена в первую очередь на изучении роли, внимательном исследовании авторского текста, создании своего «толкования», интерпретации этого текста. Именно это актер ставит во главу угла, а вовсе не желание поразить публику рассчитанным эффектом или кровавое эксплуатирование собственных эмоций. Именно таким умным толкователем роли стал третий из величайших актеров этого периода – Михаил Семенович Щепкин.
Бывший крепостной, не получивший никакого системного образования, к концу жизни он стал непререкаемым авторитетом в мире русского искусства (не только театрального), близким другом Аксакова и Гоголя, главным исполнителем ролей Фамусова и Городничего. Искусство Щепкина современники (в данном случае Аполлон Григорьев) называли искусством «толкующего комизма». Щепкин как бы «изымал» из персонажа то, что ему казалось важным, и преподносил это зрителю – «растолковывал», объяснял персонажа. Пожалуй, в этом сочеталось и искусство представления (актер все-таки не равен персонажу), и искусство переживания (чудо перевоплощения все-таки происходило)
Но все же лучше, наверное, отказаться от этих терминов. Боюсь, что они навеяны всего лишь легендами о противостоянии двух великих актеров – Мочалова и Каратыгина. Даже истории их смертей как будто продолжают это великое противостояние. Каратыгин умер, будучи абсолютным лидером труппы, обласканным императором, окруженной семьей и детьми, в собственном доме. Мочалов же, возвращаясь с гастролей, пил водку, а когда кончилась закуска, стал заедать ее снегом – вернувшись домой, простудился и умер. Эти же легенды и будут основой для разделения ремесла и высокого искусства – в актерском деле едва ли когда справедливого.
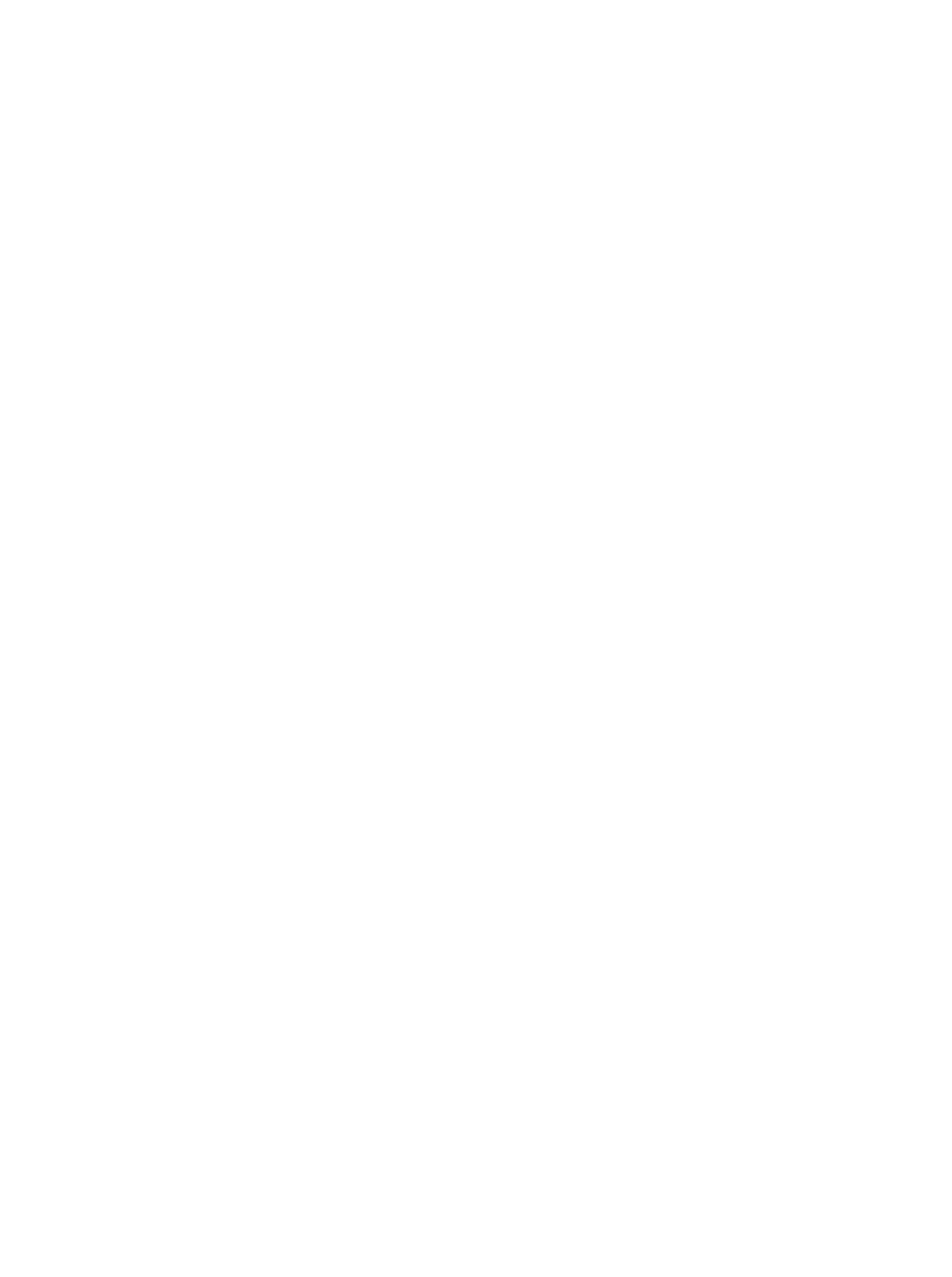
Николай Неврев, Портрет М. С. Щепкина, 1862



